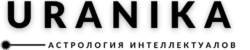Нептунианские страдания бывают как самоистязанием, так и манипуляцией. Независимо от того, понимается ли это как глубокий стыд фантазии об инцесте или как стремление сделать себя подходящим для единения с божеством посредством смирения, рождённого болью, нептунианец часто оказывается вопиюще влюблённым в собственное несчастье. Как в шекспировском Отелло:
«Будь ты сильнее вдвое,Меня не сломишь — всё перенесу!»1
Истерическая личность бессознательно использует боль в манипулятивных целях, надеясь привлечь сочувствие и заступничество со стороны других, а также выполнить внутреннее обязательство по самонаказанию. Слово, которое чаще всего используется для описания такого поведения, — мазохизм. Мазохистское поведение, независимо от того, выражается ли оно исключительно в сексуальной сфере или как общая психологическая модель жизни, принадлежит к миру Нептуна. В его основе лежит знакомое архетипическое ядро, состоящее из чувства стыда, потребности в искуплении через страдание, косвенного выражения агрессии и мощного стремления к спасению. Мазохизм рассматривается как патология. Его также рассматривают как личное проявление более глубокой, хотя и неосознанной потребности испытать страдания человеческого состояния. Оба фокуса одинаково ценны для понимания Нептуна.
Клинический интерес к мазохизму восходит к самым ранним периодам психоанализа. В предшествующие исторические эпохи его вообще не воспринимали как патологию, поскольку он так глубоко укоренён в христианском этосе.
«До того как наука стала считать мазохизм болезнью, религия считала его лечением. Средневековая церковь видела в таинстве Наказания часть своей основной функции «исцеления и спасения души».… Язык Уложения о наказаниях времён раннего христианства – язык медицинский, хотя вызывает скорее духовный, чем биологический, резонанс. Наказание является "средством исцеления" и "лечения греха"» 2
![]()